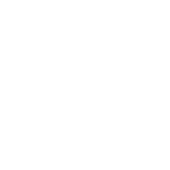Особенностью литературного процесса второй половины ХХ века является отчетливо выраженная зависимость писателя от теоретической рефлексии. Спецификой английского литературоведения второй половины ХХ века становится его «социальная озабоченность», «социологическое воображение», на которое неизменно обращают внимание исследователи[i]. «Социологическое воображение» — название книги американского социолога С. Миллса, полагавшего, что «посредством социологического воображения человек сегодня надеется понять, что происходит в мире и что происходит с ним самим — в точке пересечения биографии и истории общества. Самосознание современного человека, которому свойственно видеть себя по меньшей мере пришельцем, если не вечным странником, во многом обусловлено отчетливым представлением о социальной относительности и трансформирующей силе истории. Социологическое воображение является наиболее плодотворной формой такого самосознания»[ii]. Социальность в философии трактуется как «неразрывное единство фрагментированных единиц человеческого бытия и коллективных форм их существования (читай: совместное, коллективистское по форме воспроизводство дискретной социальной реальности), конституирующее амбивалентность социально-гуманитарного знания. В границах последнего различимы познание социального (анализ общественных структур и закономерностей различной степени общности, т.е. опосредованно-общественного) и гуманитарное познание (конкретно-индивидуальное описание феноменов социальной жизни, т.е. непосредственно-личного[iii]. В литературной теории Великобритании после 50-х есть стремление к синтезированию двух названых форм познания социального в единое целое. Литературная критика обнаруживает этот синтез в художественных произведениях. При этом теория продолжает, в сущности, существовать на пересечении все тех же дискурсов, сформировавшихся в начале индустриальной эпохи: «moral sense», тяготеющем к «discourse of instruction», дискурсе буржуазности, тяготеющем к «discourse of property», а также к не менее значимому социалистическому дискурсу. Развитие литературной теории и критики находится в определенной зависимости как от политико-экономической ситуации в государстве и переживает два отчетливо выраженных периода. Первый из них – 50-60 годы, второй – 70 – первое десятилетие ХХI века. Здесь мы предлагаем характеристику второго из этих периодов.
Особенностью литературного процесса второй половины ХХ века является отчетливо выраженная зависимость писателя от теоретической рефлексии. Спецификой английского литературоведения второй половины ХХ века становится его «социальная озабоченность», «социологическое воображение», на которое неизменно обращают внимание исследователи[i]. «Социологическое воображение» — название книги американского социолога С. Миллса, полагавшего, что «посредством социологического воображения человек сегодня надеется понять, что происходит в мире и что происходит с ним самим — в точке пересечения биографии и истории общества. Самосознание современного человека, которому свойственно видеть себя по меньшей мере пришельцем, если не вечным странником, во многом обусловлено отчетливым представлением о социальной относительности и трансформирующей силе истории. Социологическое воображение является наиболее плодотворной формой такого самосознания»[ii]. Социальность в философии трактуется как «неразрывное единство фрагментированных единиц человеческого бытия и коллективных форм их существования (читай: совместное, коллективистское по форме воспроизводство дискретной социальной реальности), конституирующее амбивалентность социально-гуманитарного знания. В границах последнего различимы познание социального (анализ общественных структур и закономерностей различной степени общности, т.е. опосредованно-общественного) и гуманитарное познание (конкретно-индивидуальное описание феноменов социальной жизни, т.е. непосредственно-личного[iii]. В литературной теории Великобритании после 50-х есть стремление к синтезированию двух названых форм познания социального в единое целое. Литературная критика обнаруживает этот синтез в художественных произведениях. При этом теория продолжает, в сущности, существовать на пересечении все тех же дискурсов, сформировавшихся в начале индустриальной эпохи: «moral sense», тяготеющем к «discourse of instruction», дискурсе буржуазности, тяготеющем к «discourse of property», а также к не менее значимому социалистическому дискурсу. Развитие литературной теории и критики находится в определенной зависимости как от политико-экономической ситуации в государстве и переживает два отчетливо выраженных периода. Первый из них – 50-60 годы, второй – 70 – первое десятилетие ХХI века. Здесь мы предлагаем характеристику второго из этих периодов.
В семидесятые годы начинаются заметные изменения в социальной жизни, связанные с резким падением экономики, кризисом социального государства и резким переходом к политике «тэтчеризма». Последний охватывает не только все восьмидесятые – период правления М.Тэтчер, — но и последующие девяностые годы. Практически весь период постмодернизма приходится в Великобритании на время «обывательского варварства». Постепенно меняется представление о роли самой культуры, которая все больше рассматривается как манипулятор, меняющий отношения базиса-надстройка. Отсюда возрастающий интерес к роли языка, дискурсивным практикам, медиа средствам. Этот интерес не является прерогативой английской критики, напротив, он становится симптомом, показателем тех глубинных процессов, которые на рубеже 60-70-х представили уже принципиально новый, постнеклассический тип мышления, названный постмодерном. Направлением, в котором литературоведение становится полигоном философии, аккумулирующей основные признаки этого мышления, становится постструктурализм. В работах И. Ильина, посвященных английской версии этого направления, сформулированы его признаки. Ильин подчеркивает, что «британский постструктурализм сохранил, восходящую к проблематике Франкфуртской школы тенденцию, т.е. социологизированную ориентацию, при том, что и европейский, и американский деконструктивизм от этого отходят»[iv] и «это движение было отмечено весьма характерной для традиционного литературоведения Великобритании «социальной озабоченностью и тяготением к конкретно-историческому обоснованию любого вида знания»[v]. Он цитирует Э. Истхоупа, создавшего первую по времени и максимальную по полноте «биографию» направления «Британский постструктурализм с 1968 года» (1988) и считавшего, что «поскольку в Британии постструктурализм был воспринят в рамках альтюссеровской парадигмы, то внедрение этой «новой критики» было нераздельно связано с вопросами идеологии и политики. Внутри этого дискурсивного пространства постструктурализм развивался в двух направлениях. Сначала постструктуралистские концепции были усвоены по отношению к проблемам текстуальности… Но при этом к постструктурализму прибегали и как к средству критики буржуазного субъекта»[vi].
Центром британских исследований становятся проблемы идеологии. В традиционном понимании этот термин означает социально-обусловленную или функциональную систему идей, в которой можно выделить некую теоретическую доктрину как центр. Для понимания динамики перехода от идей 60-х к тому, что мы назвали здесь вторым послевоенным периодом, следует рассмотреть, как меняется наполнение термина. В марксизме идеология означает ложные формы сознания, выражающих классовое господство. Так говорит «ранний Маркс». Силовое поле идей 60-х определило во многом альтюссеровское разграничение раннего Маркса и позднего, периода «Капитала». По мнению идеологов 50-х, ранний Маркс являлся наследником прежде всего Гегеля и боролся за высвобождение индивидуального начала из-под гнета родового (одна из главных экзистенциалистских оппозиций). По мнению Альтюссера, ранний Маркс – наследник в большей степени Фейербаха, «местом разрыва» становится «Немецкая идеология», после которой и создается «философская модель Маркса», т.е. изучение структуры общества, способа производства, общественных отношений. Между «молодым» и «зрелым» Марксом произошел «эпистемологический разрыв», в результате которого было создано новое учение об обществе, исходя из которого Маркс критически оценивает гуманизм. Поздний формализм Маркса приводит Альтюссера к «теоретическому антигуманизму: «не с конкретными людьми имеет дело наука, а с людьми-функциями в определенной структуре, носителями рабочей силы, представителями капитала»[vii].
Альтюссеровские идеи в совокупности с «лингвистическим поворотом» (концептуализации культуры и общественного сознания по модели языка или дискурса), определившим специфику этого периода теоретической рефлексии, позволяют Д. Лэррейну, Г. Маклеллану, Т. Иглтону, Дж. Томпсону создать новую теорию идеологии, согласно которой «идеологию целесообразнее определять не как специфическую форму общественного сознания или класс культурных представлений, а как дискурсивный эффект, реализуемый через разного рода символические конструкты, как определенный аспект символических систем (например, науки), проявляющийся в той мере, в какой эти системы связаны с отношениями власти или неравенства (например, обеспечивая их легитимацию). Соответственно, критическое изучение идеологии заключается в анализе «способов, которыми смыслы задействованные в символических формах (высказывания, образы, тексты и другие конструкты, наделяемые смыслом субъектами социальной коммуникации)»[viii]. Неомарксистское понятие идеологии служит основным концептуальным средством в конкретных исследованиях массовой культуры и средств массовой коммуникации и в культурных исследованиях второго периода.
В первой своей большой работе «Критическая практика» (1980) К. Белси, являющаяся одной из самых заметных фигур в данной теоретической области[ix], показывает, какое отношение постструктурализм имеет к литературной критике, рассматривает вопросы взаимоотношений между людьми и языком, читателями и текстами, литературой и культурной политикой и демонстрирует возможности анализа, связанного с идеями Альтюссера, Барта, Лакана, Деррида и используемого при «чтении» известных литературных произведений. Она определяет свою позицию в разделе «Критицизм и common sense»[x]. Там она пишет: «Я использую термин «идеология» вслед за Альтюссером. Идеология — это не то, что дополнительно, преднамеренно адаптировано самосознающей индивидуальностью, но сама обусловленность нашим опытом мира, не осознаваемая точно, но считающаяся само собой разумеющимся. Идеология, по Альтюссеру, работает вместе с политическими и экономическими практиками и конституирует социальную формацию. Common sense, предполагающий гуманизм, базируется на эмпиристически-идеалистической интерпретации мира. Другими словами, common sense убеждает, что человек есть начало и источник значения, действия, истории (гуманизм). Наши концепты и наше знание есть продукт опыта (эмпиризм), и наш опыт предвосхищается человеческой натурой, сущность которой всегда индивидуальна»[xi].
Отвечая на важнейший вопрос саморефлексии времени: что является основой идентичности личности, К. Белси призывает к осознанию большего количества нюансов относительно того, что должно быть человеческим, и при этом выдвигает существенную новую теорию культуры. В другой ее работе «Культура и реальное» (2005) также разрабатываются эти нюансы, показывающие, что культура регистрирует смысл ее собственных пределов более тонкими способами, чем это представляет предшествующая теория от Канта и Гегеля до Лиотара и Жижека. Высказанные в этих и других аналогичных исследованиях идеи работают в области социальной семиотики, фундаментальной теоретической основой которых стали «транслингвистическая» концепция Бахтина (взаимосвязи между тремя категориями: активная и производительная способность языка; оценочная природа значения; и социальная субъективность) и ее прочтение Ц.Тодоровым. Основой для анализа становятся категории дискурса, текста и жанра.
Белси заявляет, что, пока язык обеспечивает возможность значения, любой текст показывает многократные значения, потому что значения никогда не остаются статическими. Однако, самый существенный фактор, определяющий множество значения, — то, что возможный набор текста значений изменится согласно способу, которым дискурсы признаны читателями. Таким образом, возможно иметь единственный смысл текста, потому что «тексты, внедрены в определенных дискурсах»[xii].
Рассел в работе «Концепт как контекст» рассуждает следующим образом: «Сделать дискурс очевидным — главная цель постсовременной литературы и искусства. Показать абсолютную и близкую связь между нами как говорящих и слушающих, наши социально детерминированные образцы восприятия, размышления, выражения, и действия — функция саморефлексивных произведений. Значения как система, культура как сеть дискурсов, индивидуальная идентичность как продукт социальных кодексов поведения — это есть темы нашего искусства»[xiii].
Стивен Коннор в работе «Dumbstruck: Культурная история чревовещания»[xiv] (2000) под чревовещанием понимает не просто «проистекание голоса из “другого” места», но и все культурные формы, связанные с «перемещенными голосами». Архаичные методы предсказаний, голоса античных оракулов, «миф отделенного голоса», как Коннор называет рассказ об Орфее, уходящем в небытие и оставляющем звучание голоса, теологические и мистические дискуссии Средневековья, Голоса, услышанные Жанной Д`Арк, научные дискуссии о чревовещании в девятнадцатом веке и многое другое представляет собой обширный контекст для представления технологии современных СМИ. Перемещения «голоса» всегда — вопрос власти. В современном обществе политические вопросы фокусируются в процессе «тройной артикуляции «себя, социума и «голоса».
Семиотическая концепция культуры как «миметической практики» в восьмидесятые годы становится основой для «нового историзма». И. Шайтанов в статье «Бытовая» история»[xv] отмечает стремление этой методики исследования «представить синхронный срез исторической жизни как единый текст. Метафора «текста» обостряет внимание к предметно-бытовому составу культуры, к письменности вещей и жестов. Антропологическая интерпретация по Клиффорду Гирцу предполагала понимание не того, что текст «значит» (means), а как он «работает» (works), или, иначе говоря, какова функциональная соотнесенность социальных структур, институтов, обычаев. Задача ученого «разговорить саму реальность» (narrativize reality), не забывая в то же время, что культура живет в повествовании о ней, в том, что человек рассказывает (narrates)»[xvi]. В книге «Интерпретация культур» (1973) Гирц исходил из идеи неразделенности культуры и общества. Термин «новый историзм» был предложен американским литературоведом С. Гринблаттом в его предисловии к специальному выпуску журнала «Genre» за 1982 год, посвященному английскому Ренессансу. Однако в наиболее часто упоминаемой работе Гринблатта «Формирование «Я» в эпоху Ренессанса. От Мора до Шекспира» с подзаголовком «Циркуляция социальной энергии в ренессансной Англии» (1980) он использует в той же связи термин «поэтика культуры», трансформировавшийся в последствии в политическую и даже экономическую поэтику (К. Пай). Предлагаемая методика не является прерогативой английских исследователей, она создавалась под сильным влиянием идей Фуко, активно использовалась американскими учеными, но все-таки «идеология» нового историзма очень заметно наследует Р. Уильямсу и Т. Иглтону. «Разговор с реальностью» затевается для того, чтобы выявить смысл понятия «ценность». При этом решения вполне неожиданны для традиционного литературоведения, как, например, в работе «Модели Ценности: Восемнадцатое столетие, политическая экономика и роман» (1996), где ее автор Д. Томпсон обращается к политической экономии, чтобы раскрыть сущность романа ХVIII века: «Традиционный историзм не до конца отвечает на вопрос о том, как культура задумывает и представляет ценность. Наше понимание представления ценности находится в пределах дисциплины, которая создана, чтобы описать, моделировать и теоретизировать ценности, когда экономическая ценность используется, чтобы сделать «решительный бросок» к человеческой ценности»[xvii]. Центральным объектом исследования он делает «понятие абсолютной ценности (эстетической, расовой, гендерной, сексуальной и этнической), которое в исследованиях от высокого постструктурализма до культурных исследований деконструировалось и подверглось различным изменениям»[xviii]. Моделирование ценностей в восемнадцатом столетии имеет глубокую связь с моделированием позднего двадцатого века, — полагает Томпсон. М. Хоркхаймера и Т.Адорно Просвещение ввело в «мир, насыщенный математикой», в котором «математическая процедура стала, если можно так выразиться, ритуалом размышления…Наконец, mimesis романа есть исторически решающий шаг в моделировании, или представлении «обычной жизни». В восемнадцатом столетии Англия, политическая экономия и роман вырастают из проблемы ценности и ее переменных, так как они развивают математическую и нарративную технологии «что если…». Одновременно и роман, и политическая экономия могут быть поняты через описание фигур ценности и в тоже время через объяснение их. Я существенно заинтересован здесь взаимосвязями исторического случая, его исторического представления и потока его перепредставлений. Литературная история дает одну версию, политическая экономия – другую. Это дисциплинарное разделение непоследовательно».[xix]
При всем разнообразии деконструкций и моделей идеологий в конце века неомарксистское литературоведение сохраняет свои позиции. Терри Иглтон – один из наиболее известных и влиятельных британских литературных теоретиков на новом рубеже веков. Им написано более сорока работ[xx], в том числе «Введение в литературную теорию» (1983), «Идеология эстетики» (1990), «Иллюзия постмодернизма» (1996). В Кембридже преподавателем Иглтона был Р. Вильямс. Влияние строго академического британского марксизма, как и работ Л. Альтюссера, отразилось в работах Т. Иглтона, сделав его известным неомарксистом[xxi]. В течение шестидесятых он был членом леворадикальной католической группы Slant, что определило и теологическую тематику ряда его работ. В книге, заметно повлиявшей на современную теорию, «Введение в литературную теорию» (1983) он прослеживает историю изучения текстов от романтизма до постмодернизма, обращаясь и к структурализму, и к теории Лакана, и к деконструкции.
В заключении, названном «Политический критицизм», он делает вывод о том, что история современной литературной теории — часть политической и идеологической истории нашей эпохи. «Проблема с литературной теорией состоит в том, что она не может ни разбить доминирующие идеологии позднего индустриального капитализма, ни присоединиться к ним. Либеральный гуманизм с его отвращением к технократическому и его взлелеиванием духовной цельности во враждебном мире стремится выступить или по крайней мере изменить такие идеологии; определенные марки формализма и структурализма пытаются принять технократическую рациональность такого общества и таким образом включить себя в него»[xxii]. Н. Фрай и «Новая критика» думали, что осуществили синтез этих двух направлений, но сколько студентов филологов сегодня читает их, спрашивает автор. «Либеральный гуманизм истощился до бессильной совести буржуазного общества, нежной, чувствительной и неэффективной; структурализм уже более или менее исчез в литературном музее»[xxiii], — подводит итог ближайшей к нему по времени теории Иглтон. Признаком бессилия либерального гуманизма теоретик называет его чрезвычайно противоречивые отношения к современному капитализму. Оставшаяся без социальной основы история современной литературной теории не предлагает действенных методов анализа: «Парадоксальным образом, теория является нарративом движения от фактов в по-видимому бесконечный диапазон альтернатив: поэма как таковая, органическое общество, вечные истины, воображение, структура человеческого разума, мифа, языка и так далее… Только подумайте, сколько методов вовлечено в литературную критику. Вы можете обсудить астматическое детство поэта, или исследовать специфическое использование синтаксиса; Вы можете обнаружить шелест шелка в шипении s’s, исследовать феноменологию чтения, связать литературную работу с государством классовой борьбы или узнать, сколько копий было продано. У этих методов ничего нет общего. Фактически они имеют больше общего с другими дисциплинами — лингвистикой, историей, социологией и так далее — чем они имеют друг с другом. Методологически говоря, литературная критика – не предмет. Если литературная теория — своего рода метакритицизм, критическое отражение критики, тогда это также – не предмет»[xxiv]. Заключение Иглтона относится в большей мере к европейским и американским изысканиям и отражает отношение к ним большинства английских теоретиков. Одним из парафразов этого отношения является симптоматичный пассаж из романа Д. Лоджа «Академический обмен», где говорится о «грандиозном литературоведческом проекте» одного из героев: «Комментарии к Джейн Остен, охватывающие весь корпус ее текстов и объясняющие все, что только можно объяснить. Моррис поставил себе целью исчерпать все вопросы до конца, исследовать романы со всех мыслимых точек зрения: исторической, биографической, риторической, мифологической, фрейдистской, юнгианской, экзистенциалистской, марксистской, структуралистской, христианско-аллегорической, этической, лингвистической, феноменологической, архетипической — список можно продолжить»[xxv]. Несмотря на все вышесказанное, Иглтон делает вывод: «Факт, что «литературная теория» является иллюзией, не означает, что мы не можем взять у нее много ценных понятий для различного вида исследовательской практики в целом»[xxvi].
Перефразируя Г. Лукача, назвавшего реализм ХIХ века «эпосом буржуазной жизни», Иглтон размышляет об «эпосе коммерческой жизни» в работе «Капитализм и форма». Он считает, что попытка ликвидации оппозиции повседневного и выдающегося породила роман, как «одно из самых удивительных культурных достижений среднего класса»[xxvii]. «Действительно, в капитализме существует нечто эпическое, но также существует в нем и что-то низкое, поэтому книжная культура с трудом лавирует здесь между развенчанием и превознесением»[xxviii].
Особенно это относится к эпохе постмодернизма: «Как работы Бахтина представляли собой, кроме всего прочего, закодированную критику советской автократии, так и постмодернизм в значительной мере произрос на развалинах современного марксизма. В работах таких философов, как Бодрийяр, Лиотар и иже с ними, он возник как альтернативное мировоззрение для разочаровавшихся левых. Одержимость постмодернизма дискурсом имеет смысл только для эпохи, испытывающей дефицит политических действий… Вместо больших нарративов, которые вели в ГУЛАГ, мы имеем множество мини-нарративов… Классовая политика уступает место политике идентичности. Систему нельзя свергнуть, но ее можно по крайней мере деконструировать»[xxix]. Можно согласиться с С.Зенкиным, который считает, что Иглтон «не раз попадает в обычные ловушки марксистской теории культуры, известные у нас под неточным (потому что придуманным самими марксистами) названием «вульгарный социологизм», и уходит от собственно филологической проблематики, от истории литературы»[xxx]. Однако стремление найти крепкую методологическую основу для теоретического изучения литературы в хаосе исследовательских спекуляций в какой-то степени примиряет с этими существенными недостатками, тем более, что они свойственны и другим марксистски ориентированным авторам.
И все же заявленная неомарксизмом необходимость прочной идеологической основы как основы метода исследования саморазрушается ввиду невозможности точного определения самой идеологии. Идеология является системой кодов, которая, в свою очередь, лишь часть большого социального текста. Это представление сближает английскую критику с работами американских левых деконструктивистов, объединившихся вокруг журнала “Social text” (Мичиган). Их работы, в характеристике И. Ильина, «существенно раздвигали границы интертекстуальности, рассматривая литературный текст в контексте общекультурного дискурса, включая религиозные, политические и экономические дискурсы. Взятые все вместе, они и образуют общий, или Социальный текст. Тем самым левые деконструктивисты напрямую связывают художественные произведения не только с соответствующей им литературной традицией, но и с историей культуры. В социальный текст входит и литература социологического характера. Для Майкла Риана в «Марксизме и деконструктивизме» (1982) мир также текстуализирован, как и для всех постструктуралистов, но и наполнен социальным содержанием, поэтому любой литературный текст он рассматривает как неизбежно взаимосвязанный с социальным текстом»[xxxi].
Обращение к проблеме жанра как такового заставляет заметить, что теория в этой области несколько менее активна и разработана. Одной из причин является то, что жанр рассматривается как один из механизмов насилия и ограничения свободы субъекта, как об этом говорит Ж. Деррида: «Как только прозвучало слово «жанр», как только оно было услышано, как только кто-нибудь сделал попытку подумать о нем, наметился предел. А когда установлен предел, недалеко уже до норм и запретов»[xxxii]. В 2000 году выходит в свет антология, составленная и прокомментированная Д. Даффом «Современная жанровая теория»[xxxiii], которая включает в себя европейских авторов, наиболее повлиявших на англо-американскую теорию в данной области. Четыре из пятнадцати статей принадлежат выдающимся русским теоретикам: М. Бахтину «Эпос и роман» и «Теория речевых жанров», Ю. Тынянову «Литературный факт», В. Проппу «Трансформация волшебной сказки». Остальные: от работ Б. Кроче, Н. Фрая, Х. Яусса до Ц. Тодорова, Ф. Джеймисона, Ж. Женетта, Ж. Деррида, А. Фаулера, М. Иглтон представляют разные, иногда полярные точки зрения на проблему жанра.
В структурализме жанр рассматривался как один из внешних кодов или «программ декодирования», позволяющих совершиться акту коммуникации между читателем и писателем. Заметное место занимают «переходные» от структурализма к постструктурализму работы Ц.Тодорова о жанре. Тодоров предлагает свои определения литературе, дискурсу, жанру. Здесь он отказывается от структуралистского «литературность», т.к. предполагает наличие многих литературных дискурсов, которые объединяет в два принципа нарративности (жанров): fiction и poetry. В разделе «Чтение как конструкция» («Reading as Construction») он рассматривает чтение как конструкцию, состоящую из четырех компонентов: авторского повествовании, вымышленного мира автора, вымышленного мира читателя, впечатления читателя.
В последнее десятилетие при выборе оснований для классификации англо-американские авторы действуют в общем направлении разработки новых подходов к литературе, призванных выявить социальный смысл формальных аспектов литературного текста. Ч.Бэйзиман считает, что «попытки провести в жизнь родовую однородность воспринимаются как ограничение творческого потенциала и выражения. Признание читателя одним из ресурсов текста делает родовое формирование самое большее тривиальным справочником по интерпретации»[xxxiv]. Эта ситуация принудила многих теоретиков в последние годы подчеркивать социо-исторический смысл жанра, считает он. Сам автор рассматривает жанр как социальный факт, подчеркивает необходимость изучения его во взаимодействии с социальными науками: «Жанр становится способом соединить традиционную макросоциологию ролей, норм и классов с современной микросоциологией, которая в рассмотрении деталей конкретных взаимодействий сомневается в традиционных макрокатегориях, так как они не являются легко опознаваемыми на уровне конфликтов отдельных людей. Жанр предоставляет средство ориентировать ситуации распознаваемыми способами с распознаваемыми последствиями и таким образом устанавливает конкретный механизм для структуралистских теорий, которые предполагают, что «социальная структура постоянно переделывается в каждом взаимодействии, которое воспроизводит заказанные отношения». Литературные жанры есть части социокультурного порядка времени и места, структурирующие доступные мечты, чувства, иронию, критику и идентичности. Понять, как эти структуры культуры дают жизнь опыту чтения каждого литературного текста, и понять, как отличительные социальные методы, установленные литературными текстами, вписываются в большой гобелен человеческой жизни и текстуально установленной деятельности — вот два вопроса, которые ставит новое представление о жанре как социальном исследовании»[xxxv]. Э. Девитт в работе «Жанровое письмо (риторическая философия и теория)» (2008) исследует жанр «в социальных, лингвистических, профессиональных и исторических перспективах»[xxxvi], определяя его как символизированное риторическое действие, происходящее в связи ситуации, культуры и других жанров. Ее теоретический подход определяет жанры как типы риторических действий, которые люди выполняют и с которыми сталкиваются ежедневно в академических, профессиональных и социальных взаимодействиях. Соответственно, речь идет не только о литературных жанрах. В разделе «Анализ жанров в социальных параметрах» она пишет: «Описание социального значения жанра одновременно необходимо и невозможно»[xxxvii]. Так как общество есть комплекс, то и жанр «работает» в пределах общества. Как мы комплектуем наши знания об обществе, его взаимосвязях и работе, так мы должны комплектовать наши знания о жанре в пределах развития, воплощения установленных обществом ценностей, отношений и функций. Группы, социальные структуры и жанры транслируют контексты в социально специфические параметры и они трансформируют индивидуальные акты в контекстуально значащие общественные действия.
В целом, жанровая теория не обращается к конкретной жанровой типологии романа, но предложенные здесь трактовки явно корреспондируют с традиционным определением жанра социального романа. Следует подчеркнуть, что если цитируемые здесь работы принадлежат англо-американскому литературоведению (иногда работы британских и американских авторов трудно разграничить в силу чисто формальных причин: авторы работают в университетах двух стран, публикуют свои труды по обе стороны океана и т.д.), то интерес к роману как жанру с социальным содержанием все-таки можно определить как преимущественно британское явление. Вторая половина века в этом смысле открывается работами У. Аллена, чьим методологическим принципом является социально-исторический анализ литературного произведения. Он полагает роман наиболее активизирующим нравственную жизнь читателя жанром, основной тенденцией в истории английского романа возрастающую полноту отображения социальной жизни, основой романа – характер[xxxviii]. Наиболее востребованной советским литературоведением стала книга Аллена об англо-американской литературе «Традиция и мечта» (1964). В статье «Реализм и современный роман»[xxxix] (1959) Р.Уильямс говорит о жанровой дифференциации в современном романе, которая произошла вследствие нарушения целостной реалистической картины взаимоотношений между личностью и обществом. По его мнению, в истории английского реалистического романа XX века существуют два основных течения: социальный роман, в котором акцент сделан на обществе, а личность показана в аспекте жизни общества, и психологический роман, где основное внимание акцентируется на личности и ее внутренней жизни. Его вывод: «… думая о социальных группах в терминах класса … теперь необходимо ориентироваться на самую сильную коллективную идентичность, появившуюся в современности: нацию»[xl]. Обращение к проблеме нации и ее идентичности действительно становится важнейшей в романе второй половины века как основной социальной проблеме в 90-е годы. Об этом и одна из поздних книг Истхоупа.
Следует высоко оценить тот вклад, который внес в теорию романа упоминавшийся выше Малколм Брэдбери [xli]. В его обширном творческом наследии британскому роману посвящены книги «Что такое роман?» (1969), «Социальный контекст современной английской литературы» (1971), упоминавшийся выше, «Возможности: эссе о состоянии романа» (1979), «Нет, только не Блумсбери» (1987), «Современный мир: десять великих писателей» (1989). В работе «Современный английский роман» (1993) Брэдбери прослеживает историю романа, «как он развивался именно в Британии» за столетие, начиная с 1878 года. Рассматривая термин «modern» как неоднозначно воспринимаемый и спорный, Брэдбери вкладывает в него два значения: современный период, modern century, и традиция, которая связана с авангардом и художественным экспериментом. «Я стремлюсь найти ту запутанную связь, которая существует между ними»[xlii]. В течение «долгого срока», прошедшего со времени расцвета модернизма, первые 50 лет — от Генри Джеймса, Уайльда и Стивенсона, через Джеймса Джойса, Лоренса, Форстера до Хаксли, Ишервуда и Оруэлла – были экстенсивно обсуждены в печати, пишет он. Но следует помнить, что и сам Брэдбери, начиная с 50-х годов, постоянно делит свое внимание между исследованием модернизма в литературе и изучением обстоятельств и форм последующего литературного процесса, не только в своей стране, но и в США. В итоге у него складывается своя концепция относительно вышеуказанной «запутанной связи». В современной традиции он выделяет две основные тенденции: первую – авангардную (экспериментальную), сформированную модернизмом, и вторую – имеющую дело с социальными вопросами и современным образом жизни, сформированную в ХIХ веке. В слове «novel» всегда обнаруживается a loose and baddy monster («свободный и подпорченный монстр»), говорит он в своей иронической манере, имея в виду в том числе форму «fictional prose narrative», включающую «infinitive variety», много различных жанров[xliii]. Факт, что идея романа является весьма спорной, но факт и то, что она становится все более значимой в современной британской культуре, даже когда культура изменилась радикально. И в заключении он предлагает одну из своих дефиниций: «Роман всегда был культурно амбициозен: в серьезных формах и в нарративных экспериментах, и в моральных и философских размышлениях. … Роман – исследование с помощью воображения живой истории, времени и cознания, изучение действительности»[xliv]. Брэдбери доказывает эти выводы, основываясь на послевоенном периоде, не исследованном тогда подробно, а эти годы отмечены талантами, такими, как Грэм Грин, Ангус Уилсон, Беккет, Дорис Лессинг, Маргарет Дрэббл, Анжела Картер, Йэн Макьюен, Кингсли и Мартин Эмисы, Джулиан Барнс, Фей Уэлдон, Салман Рушди и Тимоти Mo[xlv]. Названия глав становятся той периодизацией развития романной формы, которая складывается у Брэдбери и в контексте всех его и более ранних, и поздних работ. «Поворот романа: 1878-1900»; «The Opening World (Вводный, открывающийся мир): 1900-1915»; «The Exciting Age (Захватывающий возраст): 1915-1930»; «Closing Time and the Gardens (Время закрытия и сады): 1930-1945»; «The Novel No Longer Novel: 1945-1960»; «Sixteens and after: 1960-1979»; «Artist of the Floating World (Художник в изменчивом мире): 1979 to the present». Как и ранее, он рассматривает социальные факторы, влияющие на изменения жанра в течение ХХ века: технический прогресс, научно-техническая революция, рост городского населения и объема образования. «Fictional prose narrative» меняется, так как меняются ее социальные и нравственные задачи. В этой связи следует отметить, что и в его периодизации отчетливо выделяются 60-70-е гг. и последующие. На рубеже этих десятилетий Брэдбери входил в жюри премии Букера и в статье по этому поводу вновь (он повторяет это часто) говорит, перефразируя Марка Твена, что слухи о смерти романа сильно преувеличены. «В романе есть международная энергия, и это применимо к английскому роману, или, скорее к роману стран Содружества. Часто говорят о том, что роман жив, но тот, что «живет в Нью-Йорке». Но и талант Э. Уилсона, У. Голдинга, А. Мердок, М. Спарк, Э. Берджеса, Д. Фаулза не подвергается сомнению. Задача романистов – постоянно «расширять» возможности формы романа «в свете опыта и доминирующих идей, идеологий» с целью расширения того «отличительного знания»[xlvi], который несет роман. Среди лучших в разных жанрах он называет экспериментальные романы А. Грея, фантастические К. Приста, М. Муркока, Балларда, а также «Волан» Г.Свифта, «Другие люди» Мартина Эмиса, «Счастье» П. Кэрри, «Хороший человек в Африке» У. Бойда. То, что все эти произведения вышли в один, 1981 год, свидетельствует о значительном потенциале английского романа, как и букеровский победитель – «Дети полуночи» С. Рушди, ставший открытием нового тогда направления постколониального романа.
В связи с ролью Букеровской премии в развитии литературы, можно вспомнить и книгу Ф.Тью «Современный британский роман»[xlvii] (2004), в которой также поворотным моментом в британской послевоенной беллетристике называется победу на выборах М.Тэтчер в 1979, которая стала концом «post-war consensus» («послевоенного согласия»). Он рассуждает о премии Букера как порождении тэтчеризма, правда, ставшем одним из факторов, способствовавших плюралистическому расширению британской беллетристики последней четверти ХХ века.
В следующих работах Брэдбери вновь и вновь обращается к зависимости от модернизма современной литературы. Десять великих писателей, к которым он относит Достоевского, Ибсена, Конрада, Манна, Пруста, Джойса, Элиота, Пиранделло, Вулф и Кафку, объединяются особой пристрастностью к сознанию, потому первым поставлено имя Достоевского, что тот становится «центральным характером современной литературы, сильно влияющим на каждого автора, который попытался написать роман сознания»[xlviii]. Современный автор, такой, как Фаулз, ни в коем случае не аннулирует те элементы в искусстве, которые тяготеют к наследию реализма и идее характера. Однако в то время, как традиционный роман есть форма, вовлеченная в историю, структурированная понятиями всеведения и эволюционной последовательности идеи истории, Фаулз стремится сломать структуру, допускающую в это идею современного сознания и его права на свободу. Он одновременно «god of freedom and the tricky impresario»[xlix].
Но писатель как «бог свободы» и тем более как хитрый импресарио не может быть вне морали. Здесь мы возвращаемся в исходную позицию, т.е. к дискурсу морали в понимании Ф. Ливиса. Подспудно или с очевидностью, но в работах Брэдбери всегда есть идея о великой роли модернизма как духовного движения, ориентированного на высокую культуру, отсюда и то особое предназначение, та роль, которая отводится этому направлению в современности.
От идей Ливиса в начале своей карьеры отталкивается и Дэвид Лодж, один из наиболее влиятельных современных английских ученых, автор книг «Язык литературы»[l] (1966), «Романист на перекрестках и другие эссе о литературе и критике»[li] (1971), «Виды современного письма: метафора, метонимия и типология современной литературы»[lii] (1977), «Модернизм, антимодернизм и постмодернизм»[liii] (1977) и других. Первая часть «Языка литературы» называется «The Novelist`s Medium and the Novelists`s Art: Problems in Criticism» и заканчивается разделом «Ф. Ливис и моральное измерение литературы». Лодж становится одним из теоретиков, которые отрицают ведущую роль поэзии в литературе и обращается к языку романа и его внутренней структуре. Он изучает потенциал взаимодействия вымысла и реальности, обращает внимание на апокалиптическое мироощущение послевоенного времени, требующего экспериментальных форм своего отражения. Удовлетворяющую его теорию прозы Лодж находит в трудах М. Бахтина. В книге «После Бахтина»[liv] (1990) он толкует понятия «диалогизм», «полифония», «карнавальность». Ему же принадлежит одна из типологий литературного дискурса, основанная на бахтинских категориях.
Идеи русского ученого стали основой и для книги Р. Морэс «Диалогические романы Малколма Брэдбери и Дэвида Лоджа»[lv] (1989) о творчестве уже самого Лоджа, рассматриваемого вместе с произведениями М. Брэдбери. «Работы М.Брэдбери и Д. Лоджа являются диалогами, в которых часто противоречивые представления и стили вместе формируют карту современного романа»[lvi], — считает автор.
На этой карте существуют и указатели на присутствие жанра социального романа, который все-таки не исчезает, как могло бы быть в условиях постмодернизма, а сохраняется в Великобритании. Одним тех, кто не только отмечает социальный роман, но и анализирует его, становится Стивен Коннор, автор одного из самых заметных исследований «Английский роман в истории – 1950-1995»[lvii]. В главе с названием, пришедшим из времен социального реализма, «Сonditions of England» он пишет, что «романисты после войны вернулись к стремлению девятнадцатого столетия диагностировать и показать в беллетристике «положение Англии»[lviii]. Специфика «Сonditions of England», представленных послевоенными романистами, заключалась в презентации и анализе общества Welfare State в послевоенные годы, в период духовного подъема и экономического процветания, «вызвавших экстраординарную агитацию в отношении социальных форм и структур»[lix]. В качестве примера Коннор анализирует «Иерусалим золотой» (1968) М. Дрэббл, в котором героиня, как и персонажи во множестве других романов 50-60-х, совершает путешествие из провинции в центр метрополии. В романе исследуется процесс осознания форм выбора и возможностей и «устанавливается прочная связь между формированием новых классовых форм и национальной идентичности и форм самого романа»[lx]. Сonditions of England последующих десятилетий отражены в ее же романах «Ледяной век» (1977) – документальном подтверждение влияния нефтяного кризиса на социальные отношения и «Лучезарный путь» (1987) – о социальных переменах 80-х. Среди других авторов Коннор называет Э. Уилсона с его «Англо-Саксонскими отношениями» (1956). Как уже отмечалось выше, поиск национальной идентичности становится главной темой современного романа.
Таким образом, второй период послевоенной критики отличается пристальным вниманием к элементам, составляющим социальный текст. При этом существенным отличием от предшествующего периода является утрата «чувства истории», а вместе с историзмом и «чувства прогресса». Признание за человеком права на бунт, а следовательно и права осознавать себя личностью как таковой в самом стремлении содействовать историческому прогрессу сменяется описанием индивида, не имеющего власти над манипулирующими им идеологическими силами. Интеллигент превращается из властителя дум в наемную рабочую силу. Индустриальные рабочие практически исчезают как класс в связи с сокращением производств в развитом обществе потребления и не могут быть носителями социалистических ценностей, которые, в свою очередь есть лишь один из идеологических кодов. Литературная профессия оказывается в зависимости, с одной стороны, от рынка в большей, чем когда-либо степени, с другой, подвластна теории, в том смысле, что литературная критика оказывается первичной, а сама литература следующей за ней, хотя и в гораздо в меньшей степени, чем в континентальном, особенно французском варианте. И все-таки столь напряженный интерес теоретиков к проблеме «литература и общества», усиленный социологизм литературоведения не могли не повлиять на литературный процесс, и тем более должен был способствовать сохранению традиции социального романа.
В течение всех послевоенных лет методы британской критики были отчетливо социологированы в своем магистральном направлении. Нельзя смешивать методологию исследований с самим литературным произведением, но можно предположить влияние мощного социологического, не в последнюю очередь, неомарксистского литературоведения на литературный процесс в Великобритании. И сам этот процесс невозможно анализировать, не обращаясь к тем методам, в контексте которых и появились эти произведения. В указанном историко-литературном, теоретическом и социокультурном контекстах понятно, почему А. Газьорек полагает нерасторжимой связь между жанром романа, реализмом и либеральной идеологией. Он ссылается на Оруэлла, Стейнера, Лоджа, в разные времена связывавшие реализм романа с либерализмом[lxi], но этот ряд имен можно значительно расширить. Ряд «реализм»- «роман» — «либерализм» практически синонимичен в британских исследований, это уже не теория, а генетически унаследованное новыми поколениями писателей чувство. В «горизонте читательских ожиданий» в этой стране роман всегда связан с социальным началом, что позволяет Дж. Тейлору и в 1993 году с полным основанием назвать роман «зеркалом социальных перемен»[lxii].
_____________________________________
[i] Ильин, И. Английский постструктурализм и традиции социального историзма // Диапазон. 1992, № 1. — С. 35.
Пешио, Д. Социологическое воображение в современном англоязычном литературоведении // НЛО. – 2002.- № 58. – С.334-343.
[ii] Миллс, С. Социологическое воображение http://society.polbu.ru/mills_imagination/ch02_iii.html.
[iii] Постмодернизм: Энциклопедия. / Под ред. А.А.Грицанова, М.А. Можейко. — Минск, 2001. – С. 790.
[iv] Там же, с. 128.
[v] Там же, с. 127.
[vi] Там же, с. 129.
[vii] Цит. по: Грецкий М.М. Марксистская философия в современной Франции. М., 1984 // http://ariom.ru/wiki/LuiAl%27tjusser
[viii] Eagleton, Т. Ideology: Introduction. -London: Verso, 1991. – 342 р. ; Larrain, J. The Concept of Ideology. — London: Hutchinson, 1979.- 256 р.; MacLellan G. Ideology. Milton Keynes: Open University, 1995; Thompson J. Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass Communications. — Oxford: Polity Press, 1992; Thompson J. Studies in the Theory of Ideology. -Cambridge: Polity Press , 1984.- 347 р.
[ix] Кэтрин Белси – автор работ: A Future for Criticism (2011).Shakespeare in Theory and Practice (2008), Why Shakespeare? (2007), Culture and the Real (2005), Poststructuralism: A Very Short Introduction (2002), Shakespeare and the Loss of Eden (1999), Desire: Love Stories in Western Culture (1994), John Milton: Language, Gender, Power (1988), The Subject of Tragedy (1985),Critical Practice (1980, 2002). Признание значимости трудов К. Белси отражено в том числе в специальном выпуске издания Textual Practice 24.6 (2010) с названием Literature and Culture: The Work of Catherine Belsey
[x] Belsey, C. Critical Practice. — Routledge, 2002. – P. 1-36.
[xi] Там же, с. 6-7
[xii] Там же, с. 19-20. По этому поводу: Clarke, R. J. Social Semiotic Contributions to the Systemic Semiotic Workpractice Framework// Sign Systems Studies. — 29 (2). – Р. 587-605
[xiii] Russel, C. The Context of the Concept// Romantism. Modernism, Postmodernism. — Buknell Univ. Press, 1980. — P.192.
[xiv] Connor, S. Dumbstruck: A Cultural History of Ventriloquism. — Oxford University Press, 2000. — 450 р.
[xv] Шайтанов, И. «Бытовая» история //Вопросы литературы . — 2002, № 2. — С. 3–24.
[xvi] W h i t e, H. The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Representation. — Baltimore and L., 1990. .- Р. 2. (Цит. по: Шайтанов, И. «Бытовая» история //Вопросы литературы . — 2002, № 2. — С. 3–24.
[xvii] Thompson, J. Models of Value: Eighteenth-Century Political Economy and the Novel. — Duke University Press, 1996.- Р. 1
[xviii] Там же.
[xix] Томпсон приводит примеры: после классических марксистских работ есть много прецедентов изучения литературы и экономики: Maximillian Novak, Economics and the Fiction of Daniel Defoe, Samuel Macey, Money and the Novel: Mercenary Motivation in Defoe and His Immediate Successors; John Vernon, Money and Fiction: Literary Realism in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries; Roy R. Male, Money Talks: Language and Lucre in American Fiction; Mona Scheuermann, Her Bread to Earn: Women, Money and Society from Defoe to Austen; and, in 1994, Colin Nicholson. Writing and the Rise of Finance: Capital Satires of the Early Eighteenth Century.
[xx] The New Left Church [as Terence Eagleton] (1966), Shakespeare and Society, Exiles And Émigrés: Studies in Modern Literature (1970), The Body as Language : outline of a new left theology (1970), Criticism & Ideology (1976), Marxism and Literary Criticism (1976), Walter Benjamin, or Towards a Revolutionary Criticism (1981), The Rape of Clarissa: Writing, Sexuality, and Class Struggle in Samuel Richardson. -Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982, Literary Theory: An Introduction. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983, The Function of Criticism (1984), Saint Oscar (a play about Oscar Wilde), Saints and Scholars (a novel, 1987), Raymond Williams: Critical Perspectives. — Boston: Northeastern University Press, 1989, The Significance of Theory (1989), The Ideology of the Aesthetic (1990), Nationalism, Colonialism, and Literature. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990, Ideology: An Introduction (1991/2007), Wittgenstein: The Terry Eagleton Script, The Derek Jarman Film (1993), Literary Theory. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996, The Illusions of Postmodernism (1996), «Heathcliff and the Great Hunger» (1996), Marx (1997), «Crazy John and the Bishop and Other Essays on Irish Culture» (1998), The Idea of Culture (2000), The Gatekeeper: A Memoir (2001), The Truth about the Irish (2001), Sweet Violence: The Idea of the Tragic (2002), After Theory (2003), Figures of dissent: Reviewing Fish, Spivak, Zizek and Others (2003), The English Novel: An Introduction (2004), Holy Terror (2005), The Meaning of Life (2007), How to Read a Poem (2007), Trouble with Strangers: A Study of Ethics (2008), Literary Theory. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008, Reason, Faith, and Revolution: Reflections on the God Debate (2009), On Evil (2010), Why Marx Was Right (2011).
[xxi] Красавченко, Т.Н. Иглтон Терри //Западное литературоведение ХХ века. Энциклопедия. — М.: Интрада, 2004.- С.156.
[xxii] Eaglton, T. Literary Theory: An Introduction. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983. – Р.199
[xxiii] Ibid. – Р.199.
[xxiv] Ibid. – Р.196.
[xxv] Лодж, Д. Академический обмен: Повесть о двух кампусах.// http://www.erlib.com/Дэвид_Лодж/Академический_обмен.
[xxvi] Eaglton, T. Literary Theory: An Introduction. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983.
[xxvii] Иглтон Т. Капитализм и форма // Пер. Е.Бучкиной. — http://scepsis.ru/library/id_2647.html
[xxviii] Там же.
[xxix] Иглтон, Т. Вместить в себя многообразие: слово Бахтина и слово о Бахтине 21 июня 2007 г. Перевод Иосифа Фридмана. Перевод опубликован на сайте «Русский журнал». Англоязычный оригинал опубликован на сайте «London Review of Books».
[xxx] Зенкин С.Теория как история (Заметки о теории ,22) // НЛО, 2010, 105\ http://magazines.russ.ru/nlo/2010/105/
[xxxi] Ильин, И. Социальный текст // Зарубежное литературоведение ХХ века. Энциклопедия. — М.: Интрада, 2004. — С. 377
[xxxii] Derrida, J. The law of genre // Glyph Seven,Textual Studies. — Baltimore, 1980. — P. 202-229.
[xxxiii] Modern genre theory./ Ed. аnd Intr. D. Duff. — Harlow, England, New York: Longman, 2000. — С. 287.
[xxxiv] Bazerman, Ch. Social Forms as Habitats for Action// Journal of The Interdisciplinary Crossroads. — 2003, 1(2). – Р. 123-142.
[xxxv] Там же.
[xxxvi] Девитт, Э. Writing Genres (Rhetorical Philosophy & Theory). — SIU Press, 2008.
[xxxvii] Девитт, Э. Writing Genres (Rhetorical Philosophy & Theory). — SIU Press, 2008. — С. 33. Добавим сюда и работы Kress, Gunther. Genre as Social Process. //The Powers of Literacy: A Genre Approach to Teaching Writing/ ed. B. Cope and M. Kalantzis. — Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1993. – Р. 22-37.
[xxxviii] Аллен, У. Традиция и мечта: критический обзор английской и американской прозы с 20-хгодов до сегодняшнего дня. — М., 1970. — 424 с. Allen W. The English Novel :A Short critical history. — L.,1954. — 359 р.
[xl] Easthope, А. Englishness and National Culture.- London: Routledge, 1999. – P. ix.
[xli] Malkolm Bradbury, 1932-2000. Основные работы М. Брэдбери: Evelin Waugh. — Edinburgh: Oliver & Boyd, 1962; What is a novel ?– London: Edward Arnold, 1969, The social context of modern English literature.-
Oxford: Blackwell, 1971. — New York, Schocken, 1971. Possibilities: essays on the state of the novel. – London, New York, Oxford University Press, 1972. Modernism: 1890-1930. — Harmondsworth: Penguin, 1976;The outland dart: American writers and European modernism. — London: Oxford University Press for British Academy, 1978. Introduction to American studies. — London/New York: Longman, 1981. (Revised edition, 1989. New revised edition, 1997) , The expatriate tradition in American literature.//Durham, British Association for American Studies Pamphlet. — 9. – 1982, Saul Bellow — . London/New York: Methuen (Contemporary Writers series), 1983.;The modern American novel. — London/New York: Oxford University Press, 1983 (Revised edition, London: OUP, 1992; New York: Penguin, 1992. Second revised edition, OUP, 1995.), No, Not Bloomsbury. – London: Deutsch, 1987. — New York: Columbia University Press, 1988. – London: Arena, 1989 , The modern world: ten great writers. – London: Secker & Warburg, 1988. — New York: Viking Penguin, 1989. — London/New York: Penguin, 1989 , From Puritanism to postmodernism: a history of American. — London,: Routledge, 1991. — New York: Viking Penguin, 1991. — London/New York: Penguin, 1992, The modern British novel [Study of British fiction, 1876-present]. – London: Secker and Warburg, 1993. — New York: Viking Penguin, 1994; Dangerous pilggimages: Trans-Atlantic mythologies and the novel. — London: Secker and Warburg, 1995. — New York: Viking, 1996, The atlas of literature. — London and New York: De Agostini, 1966.; Stepping Westward: from literary criticism to literary.- London: Institute of US Studies, 1999.
[xlii] Bradbury, M. The modern British novel. Study of British fiction, 1876-present. –London: Secker and Warburg, 1993. – Р. 1Х.
[xliii] Ibid., p. X.
[xliv] Ibid, р. 457.
[xlv] Ibid, р. 460.
[xlvi] Ibid
[xlvii] Tew. Ph. The Contemporary British Novel. — London: Continuum, 2004. – 272 р.
[xlix] Bradbury, M. No, Not Bloomsbury. — London, 1987. — P. 293.
[l] Lodge, D. Language of Fiction. Essays in criticism and verbal analysis of the English novel. — London: Routledge & Kegan Paul. — New York: Columbia University Press, 1966. – 283 р.
[li] Lodge, D. The Novelist at the Crossroads and other essays on fiction and criticism. – London: Routledge and Kegan Paul, 1971. – 297 р.
[lii] Lodge, D. The Modes of Modern Writing: metaphor, metonymy and the typology of modern literature. — The Univ. of Chicago Press, 1988. – 279 р.
[liii] Lodge, D. Modernism, antimodernism and postmodernism / D. Lodge // Working with structuralism. Essays and reviews on nineteenth and twentieth-century literature. — Boston etc.: Routledge and Kegan Paul, 1981.
[liv] Lodge, D. After Bakhtin. Essays on fiction and criticism / D. Lodge. -London; New York: Routledge, 1990.- 208 р.
[lv] Morace, R. The Dialogic Novels of Malcolm Bradbury and David Lodge / R. Morace. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 1989. -222 p.
[lvi] Там же
[lvii]Connor, S. The English Novel in History 1950-1995. — London and New York: Routledge, 1996. – 260 р.
[lviii] Ibid, р. 45
[lix] Ibid, р. 46
[lx] Ibid, р. 48
[lxi] Gasiorek A. Post-war British fiction. Realism and after. L.: 1995 – Р. 8-9
[lxii] Taylor D. After the War. The Novel and English society since 1945 London.: Chatto & Windus., 1993. xxvi + 310 pp.
Отечественная англистика (библиографический список)